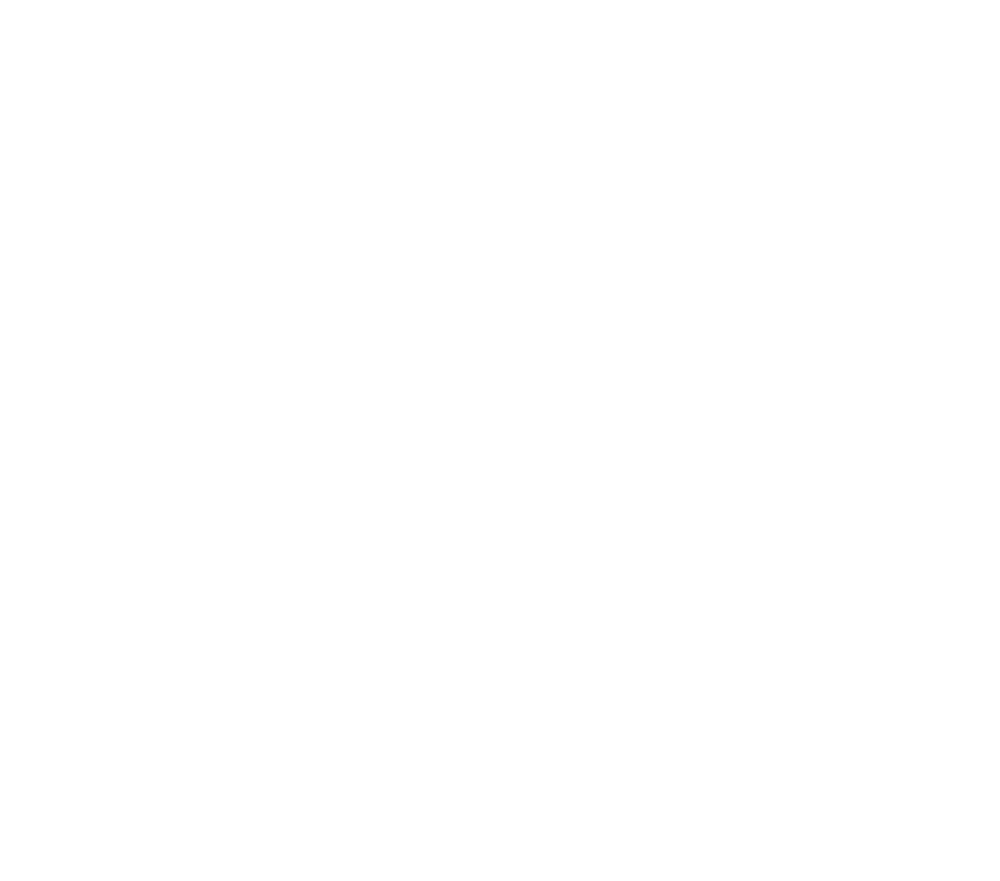Тема 5. Основы теории СМК в рамках технологического детерминизма
Теории СМК в рамках технологического детерминизма ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ - концепция, исходящая из решающей роли техники и технологии в развитии социально-экономических структур. Мысль о том, что ведущая роль в развитии истории принадлежит технике, высказывалась довольно давно. Но окончательно концепции технического, или технологического, детерминизма оформились лишь во второй половине XX в., что было связано с началом и последующим развитием научно-технической революции. Торонтская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн Это первое по времени образование, ориентированное на изучение медиа, создается при Торонтском университете (Канада) сразу после Второй мировой войны по инициативе и под руководством географа и политэконома Гарольда Инниса (Harold Adams Innis, 1894-1952), впоследствии связанное с деятельностью «гуру» новых электронных медиа Маршаллом Мак-Люэном (Herbert Marschall McLuhan, 1911-1980). Согласно Иннису, технологии коммуникации выступают как формообразующая сила и действующая причина эволюции человеческого общества. Мировую славу Торонтской школе принес ученик Гарольда Инниса Маршалл Мак-Люэн — философ, культуролог, социолог, теоретик коммуникационных технологий, ставший культовой фигурой, «символом революции аудиовизуальных средств, шагающей по Уолт-стрит». В 60-е годы XX в. Мак-Люэн стал модной «интеллектуальной звездой», в нем даже видели «крупнейшего мыслителя со времен Ньютона, Дарвина, Фрейда, Эйнштейна и Павлова», «пророка массовой коммуникации», «гуру средств общения». Три книги Мак-Люэна сделали его знаменитым, принеся ему славу во вненаучных кругах: The Gutenberg Galaxy (1962), Understanding Media (1964) и The medium is the Message (1967). В 90-е годы XX в. начинают говорить о «маклюэновском ренессансе», развернувшемся на просторах его «интеллектуального детища» — Интернета, чье возникновение он предсказывал. Основная цель Мак-Люэна — изучение разных форм культуры как средства общения, где коммуникации играют системообразующую роль, формируя психологию индивида и условия его повседневной жизни. Наряду с масс-медиа он рассматривал в этой связи коммуникативные функции других предметов культуры, т.е. артефактов, в том числе языка, дорог, денег, компьютеров. Коммуникация для Мак-Люэна — продолжение (экстериоризация) телесных органов и чувств человека, а исторические формы коммуникаций он уподобляет галактикам, которые могут встречаться, проходить одна через другую, менять свои конфигурации. Смену исторических эпох он трактует как переворот в развитии культуры, вызванный сменой ведущего средства коммуникации, которое занимает место своего предшественника и подчиняет его себе. Это новое средство сообщения оказывает решающее воздействие на человека, радикально изменяя соотношение органов чувств в восприятии действительности («сенсорный баланс», в терминологии Мак-Люэна), жизненный стиль, ценности и формы общественной организации.
Речевая, или аудиокультура — это, по Мак-Люэну, магический мир слуха, или племенной мир, это общество «уха». Устное слово чувственно-синтетично, создавая определенный сенсорный баланс «племенного» человека, существующего в резонирующем мире одновременных связей, поскольку его восприятие определяют «сообщающие все сразу» слух и тактильные ощущения. Господство устной речи, взаимопроникновение и слияние слова и дела, характеризующие эпоху «племенного человека», порождают мифологическую цельность мышления, т.е. синкретизм восприятия мира, недифференцированную соединенность человека и общества, или, в терминологии Мак-Люэна, «шарообразность» (замкнутость) картины мира. Изобретение фонетического алфавита как активного коммуникативного средства привело к трансформации закрытого «племенного мира»: визуальное давление фрагментарной письменной культуры гипертрофировало глаз, привело к торжеству визуального восприятия (линейной перспективы как естественной) как основы нового сенсорного баланса — господства «разделенного» сознания, породив «эксплозию» (Эксплозия (фр. explosion) — взрыв. Мак-Люэн под эксплозией понимает формально-структурный процесс дифференциации, фрагментации, специализации элементов и функций, продолжающийся уже три тысячелетия взрыв механической технологии). Процесс расчленения звуков и жестов с введением алфавита завершился книгопечатанием. Гуттенберг, создав наборный шрифт, открыл путь технологиям — механизации ремесел. Европа, где произошло образование «галактики Гуттенберга», вступила в технологическую фазу прогресса (типография создает первый стандартно производимый товар, инициирует массовое производство), в которой само изменение становится архетипом социальной жизни. Образ повторяемой точности — печатный текст — служит моделью соединения людей: племя заменяется ассоциацией индивидов, увидевших свой язык («типографского и индустриального человека», по Мак-Люэну), — возникают нации, формируются национальные языки и национальные государства. С увеличением скорости обмена информацией (XVIII—XIX вв.) появляется национализм как новое представление о групповой общности и идея нации — интенсивный и обманчивый образ групповой судьбы, выражающий экономическое и политическое единство структур массового производства, оказавшие огромное влияние на историю человечества в XX в. Первая промышленная революция и стремительное распространение узкой специализации в профессиональной сфере как основа индустриализма, нации и национальные государства, как и распространение рациональности, а также пространственное расширение социальных отношений, массовый рынок, всеобщая грамотность и, как следствие, индивидуальный массовый читатель, — все это результаты воздействия на европейское человечество «галактики Гуттенберга». Величайший из всех переворотов в человеческой истории связан с появлением электричества, представляющим собой «чистую информацию»; коммуникация с помощью электричества — мгновенная связь, упраздняющая «временные и пространственные факторы человеческой ассоциации, создавая глубинное вовлечение»2 . На основе электричества, скорость которого примерно 300 тыс. км/сек, вырастает новый тип общества, для обозначения которого в 1962 г. Мак-Люэн вводит понятие «электронное общество».
В «электронном обществе», как и в племенную эпоху, вновь начинает доминировать устная коммуникация, но качественно иная: электричество, «опутавшее» весь земной шар в виде глобальной коммуникационной сети, выступая как аналог центральной нервной системы, позволяет индивиду ощущать не только последствия каждого своего действия, но — и это главное — действий других людей. Это результат «имплозии коммуникации», когда за счет стремительного сжатия пространства, времени и информации находящийся в одном месте индивид сможет одновременно «переживать» состояние отдаленных объектов. (Под имплозией Мак-Люэн понимает процесс, противоположный эксп-лозии, когда происходит процесс интеграции, снятие фрагментации и специализации, собирания целого из «осколков» как нецентрированный «взрыв вовнутрь». Русским эквивалентом имплозии часто оказывается понятие «сжатие», «схлопывание»). Тем самым происходит снятие различий между «центром» и «периферией» (само это противопоставление, по Мак-Люэну, теряет смысл) и возникает «глобальная деревня» (земной шар под сетью электричества оказывается не больше деревни). По мере информатизации общества, считал Мак-Люэн, понятие глобальной деревни все в большей степени будет соответствовать его природе как нового единства мира человека. Особенностью этого нового типа общественного устройства оказывается возможность «максимального разногласия по всем вопросам» в силу представленности бесчисленных индивидуальных точек зрения (возможности, которые ныне демонстрирует Интернет). Средство сообщения есть сообщение Наряду с понятием «глобальной деревни» одним из наиболее значимых созданий Мак-Люэна является чрезвычайно глубокая мысль, которую он вынес в заглавие одной из своих книг Medium is a message («Средство сообщения есть (само) сообщение», или «Сообщением, передаваемым средством общения, является само это средство»). Существует множество интерпретаций этой идеи. Для самого автора здесь важны несколько моментов: во-первых, технические возможности канала передачи, выражающие уровень технологического развития общества и вытекающие из этого социальные изменения; во-вторых, независимо от содержания сообщения событие приобретает общественную значимость не само по себе, а в связи с переданным о нем по коммуникационному каналу сообщением («чего нет в СМИ, того нет в жизни» — таково убеждение современного человека). В отличие от расхожих представлений, Мак-Люэн постоянно подчеркивал, что ТВ — это «не труба», по которой можно «перегонять все, что угодно»: то, что передается по ТВ, принимает на себя часть его природы и отражает его свойства, само становясь телеподобным и телегенным. В основе этого утверждения Мак-Люэна лежит его представление о степени психологической вовлеченности человека в процесс восприятия сообщений различных «электрических» СМИ, выразившаяся в выделении «горячих» (hot) и «холодных» (cool) каналов коммуникации. К «горячим» средствам, он относит фотографию, радио, кино, при восприятии которых нет простора для заполнения или довершения, к «холодным» — речь, телефон и телевидение, которые из-за недостатка информационной определенности подключают и другие органы чувств, открывая простор для достраивания недостающего.
Мак-Люэн выделяет следующие особенности телевидения: 1.технологическую мозаичность изображения, складывающегося из множества точек, конфигураций или совокупностей цветовых пятен, требующего от телезрителя усилий по структурной организации этих элементов до целостной «картинки»; 2.мозаичность содержания — телевидение собирает на экране все времена и пространства сразу, «возвещающее всемирное даже в тривиальном». (Как писал Н. Постман, логика построения телевизионных сообщений следует принципу: «А теперь о другом».); 3.крупный план как норма телевизионного изображении (по данным исследований, даже при показе сцен насилия глаза детей не отрываются от лиц актеров); 4.предпочтение малого сюжетного действия; 5.быстрая смена сюжетов; 6.прямая трансляция как основа сюжета; 7.перестановка реальной последовательности действий, поскольку результат сообщается в начале сюжета, или, по Мак-Люэну, реакция предшествует акции; 8.ТВ ненасытно. Несмотря на то что Мак-Люэн считается «пророком» электронных медиа, он крайне негативно оценивает «власть» телевидения. Вот несколько его высказываний: «ТВ действует как ЛСД», «Мы бы очень выиграли, если бы несколько лет прожили без ТВ», «Было бы очень хорошо, если бы в Америке не было ТВ». Особую опасность, считает он, представляет телевидение для детей: «ТВ-ребенок — инвалид без привилегий», «Безопасная доля ТВ для детей — что-то около нуля», поскольку оно оказывает чрезвычайно сильное физиологическое воздействие на человеческий мозг. Но даже если на начальных этапах жизни развитие мозга сбалансировано, то последствия телевидения для ребенка все равно негативны, ибо, как писал Мак-Люэн: «Телевизор демобилизует мускулы глаза. Поэтому дитя телевидения не может читать. Это не теория, а факт, который мы смогли обнаружить и продемонстрировать». В условиях «электронного» окружения современного человека, становящегося «частью» СМИ, наиболее органичным способом восприятия мира и «удержания» сознанием ускользающей его целостности оказывается, по мнению Мак-Люэна, миф. Он даже предложил концепцию мифотворческой энергии средства коммуникации (mythmaking power of medium) Место реального единства занимает единство воображаемое, которое немногим отличается от изоляции зрителей от создаваемой телевидением вне их участия реальности: каждый оказывается наедине со своими эмоциями перед телеэкраном, что вполне сопоставимо с той дистанцией, которую в деревне ее жители соблюдают по отношению друг к другу. Но при этом все зрители оказываются объединены, поскольку медиа, используя метафорическое выражение Мак-Люэна, превратились в нервную систему современного общества.
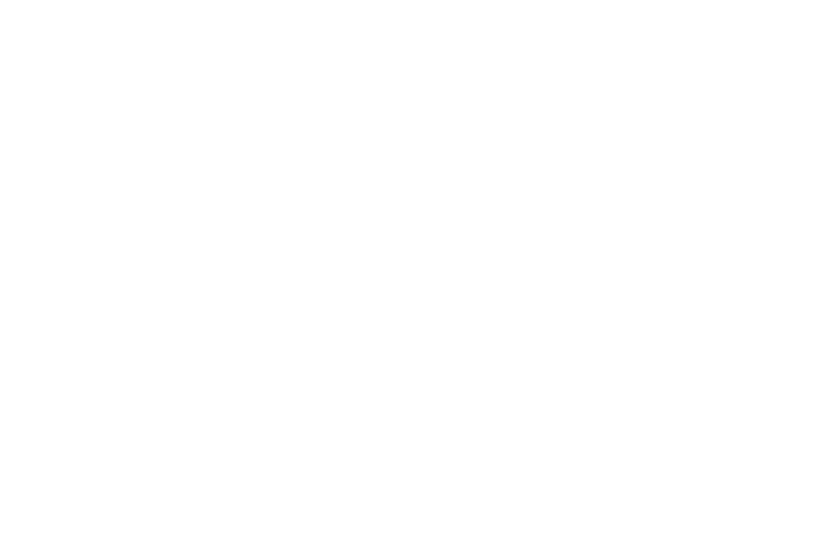
Развитие идей Торонтской школы Идеи Г. Инниса и М. Мак-Люэна получили развитие в работах ряда ученых, например, у американского социолога Олвина Гоулднера (Alvin Ward Gouldner — 1920-1980), профессора социологии Вашингтонского, а затем Амстердамского университетов. Американский исследователь Джосайя Меерович. Его тезис состоит в том, что всепроникающая сущность электронных медиа фундаментально изменила социальный опыт современного человека, разрушив перегородки между социальными пространствами, существовавшими ранее. Традиционно человеческий опыт сегментирован в зависимости от социальных ролей и жизненных ситуаций и резко разделен на приватное, или задний план (backstage), и публичное, или передний план (onstage). Сегментация происходит по возрасту, социальному полу (гендеру) и социальным статусам, и «стенки» между зонами опыта очень высоки. Новые электронные медиа, прежде всего телевидение, выносят все аспекты опыта напоказ для всех без исключения: больше нет секретов относительно взрослости, смерти, секса или власти, что позволяет говорить о своеобразной «медиатизации опыта» современного человека. Научная концепция Элвина Тоффлера основывается на идее сменяющих друг друга волн-типов общества. Первая волна — это результат аграрной революции, которая сменила культуру охотников и собирателей. Вторая волна — результат индустриальной революции, которая характеризуется нуклеарным типом семьи, конвейерной системой образования и корпоративизмом. Третья волна — результат интеллектуальной революции, то есть постиндустриальное общество, в котором наблюдается огромное разнообразие субкультур и стилей жизни. Информация может заменить огромное количество материальных ресурсов и становится основным материалом для рабочих, которые свободно объединены в ассоциации. Массовое потребление предлагает возможность приобретать дешёвую, нацеленную на конкретного покупателя продукцию, распределяемую по малым нишам. Границы между продавцом (производителем товара и (или) услуги) и покупателем (потребителем) стираются — «prosumer» может сам удовлетворить все свои потребности.
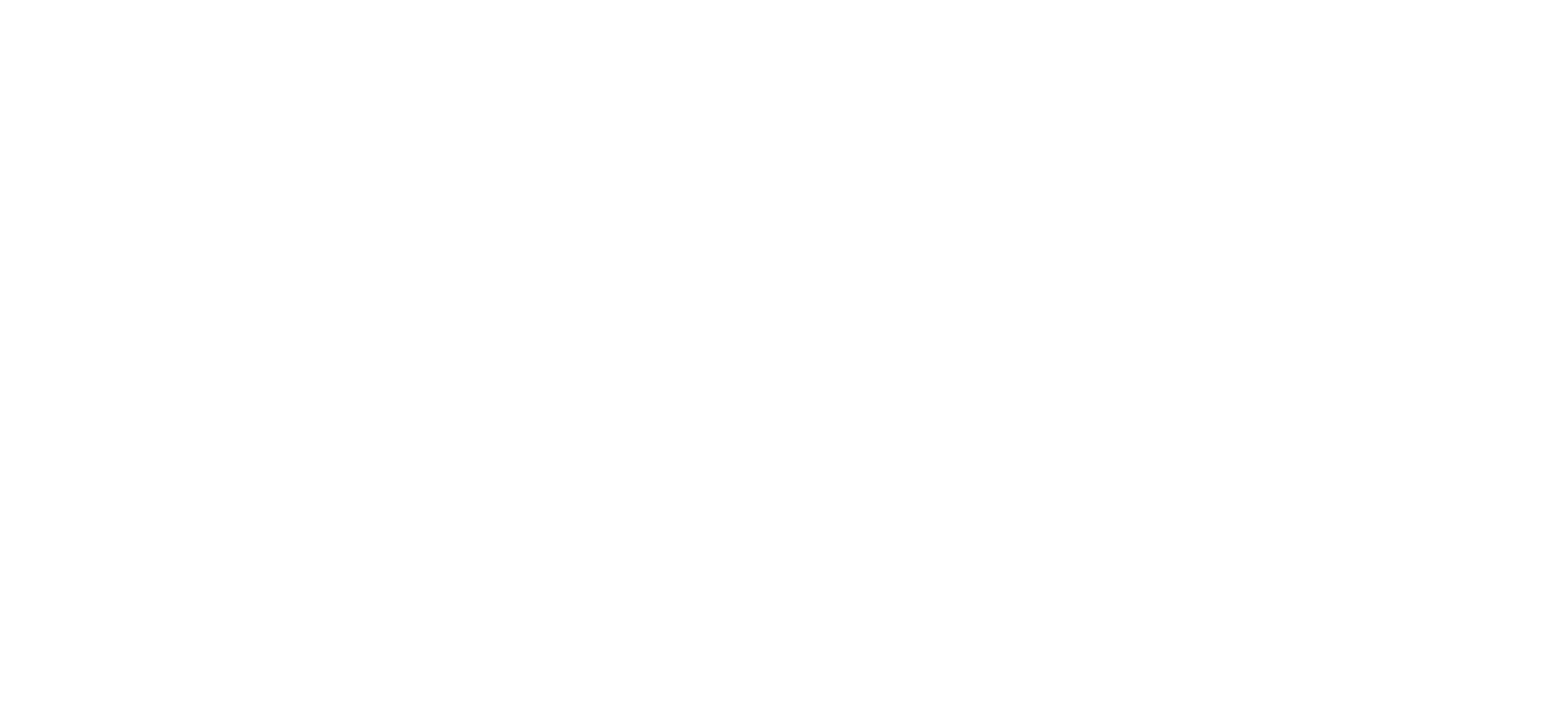
Либертарианская система журналистики (libertarian – основанная на свободе воли): 1) оформилась и принята в Англии (после 1688 г.) и в США; влиятельна и в других странах; 2) теория развивалась из трудов Мильтона, Локка, Милля и из философии рационализма и естественных прав человека; 3) основные цели печати – информировать, развлекать, продавать, но главным образом помогать «открывать правду» и контролировать (check in) действия правительства; 4) печать имеет право использовать любой гражданин, обладающий для этого экономическими возможностями и средствами; 5) печать контролируется самопроизвольным процессом установления правды на «свободном рынке идей» («процесс возвращения к истине»), а также судами; 6) запрещены клевета, непристойности, измена в военное время; 7) печать принадлежит главным образом частным лицам; 8) основное отличие от других концепций в том, что печать является инструментом контроля над правительством (checking on government) и удовлетворения других нужд общества. Являясь продолжением либеральных философских принципов, либертарианская доктрина заложила основы всей социально-политической структуры в государствах, принявших ее. А сама либеральная социально-политическая система оказала влияние на характер и развитие социальных институтов, в том числе на прессу, исповедующую принципы, лежащие в основе общества, частью которого она является. Концепция социальная ответственности журналистики: 1) возникла в США в середине ХХ в.; 2) оформилась в ходе работы Комиссии по свободе печати. 3) основные цели СМК – информировать, развлекать, продавать, но главным образом переводить конфликт в рамки дискуссии; 4) использовать трибуну СМК может каждый, если у него есть что сказать; 5) деятельность СМК контролируется мнением общества, действиями потребителей, профессиональной этикой журналистов; 6) запрещено серьезное вмешательство в частную жизнь и жизненно важные общественные интересы; 7) СМК находятся в частных руках, если только правительство не вынуждено взять часть из них (или учредить новые) в свои руки в интересах общества; 8) СМК должны взять на себя обязательства по социальной ответственности, в противном случае их должны к этому принудить. Индивидуализм (приоритет личности перед обществом) как философская основа либертарианства, был заменен коллективистской теорией приоритета общества перед личностью, а либертарианская «свобода от всяких внешних ограничений» была заменена понятием «свободы для чего-то» (для блага общества). Социалистическая система журналистики: 1. Оформилась в России – СССР в начале ХХ в. Практикуется в странах коммунистической ориентации (Корея, Китай, Куба, Вьетнам и др.). 2. Возникла из марксистско-ленинской идеологии, идеи «диктатуры пролетариата». 3. Главная цель – служить пропагандистско-агитационно-организационным рупором партии (в советские годы – правящего режима). 4. СМИ могут открываться (закрываться) только по решению ЦК партии. 5. Печать контролируется партийными органами и с помощью цензуры (лито). 6. Запрещена критика политического строя, пропаганда иных способов правления. 7. Печать находится в руках правящей партии, государства, общественных организаций, контролируемых партийными органами
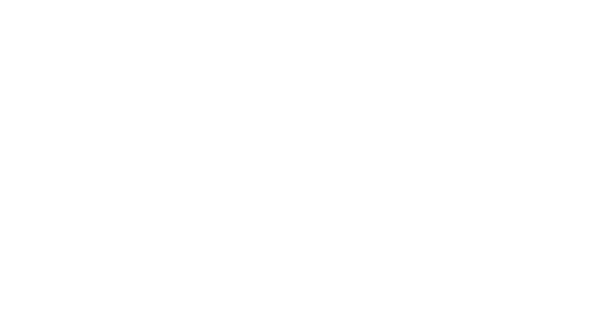
В том, что подход Сиберта страдает не только упрощенностью, но и предвзятостью, убедились исследователи международных моделей масс-медиа. Они утверждают, что, поскольку Сиберт отдает предпочтение тем странам, где основные медиа (газеты, радио и телевидение) находятся под одинаковым правительственным контролем, концепция «четырех теорий» лишена гибкости, необходимой для должного описания и анализа всех современных систем прессы, и поэтому должна быть модифицирована. Именно это сделал Маккуэйл, предложив еще две — для медиа периода развития и демократического участия (партиципаторную). Теория для медиа периода развития Теория для медиа периода развития выступает за поддержку средствами массовой коммуникации действующего режима и его усилий по обеспечению экономического развития. Таким образом, медиа помогают обществу в целом. Согласно этой теории, пока страна не достигнет определенной степени политического и экономического развития, медиа должны поддерживать, а не критиковать правительство. Иногда сферу применения этой теории сужают до «стран третьего мира». Ее создание стало возможным после того, как были выявлены общие черты масс-медиа в развивающихся странах, для которых не применимы положения других нормативных теорий. Одно из обстоятельств — это отсутствие некоторых условий, необходимых для развитых систем массовых коммуникаций, а именно: коммуникационной инфраструктуры, профессионального мастерства, производственных и культурных ресурсов, достаточной аудитории. Другой, связанный с предыдущим, фактор — это зависимость от развитых стран в техническом, профессиональном и культурном планах. В-третьих, своей главной задачей (в разной степени) многие общества ставят экономическое, политическое и социальное развитие страны, и ей должны подчиняться все другие институты. В-четвертых, развивающиеся страны все больше осознают свою идентичность и собственные интересы в международной политике. Нормативные элементы новой теории, формирующейся под воздействием описанных выше обстоятельств, особенно резко направлены против зависимости и иностранного влияния, а также произвольного авторитаризма. Поддерживается положительное использование медиа в деле национального развития, декларируются автономия и культурная идентичность конкретного национального общества. В определенной степени они поддерживают демократическое участие народных масс, т.е. коммуникационные модели участия. Это отчасти является продолжением принципов самостоятельности и противодействия авторитаризму и признанием необходимости достигать цели развития совместными способами. 6. Теория демократического участия Действие теории демократического участия (или партиципаторной теории) распространяется в основном на развитые либеральные общества, но она стыкуется и с некоторыми положениями теории для медиа периода развития, в частности с ее упором на «базис» общества, на значимость горизонтальной, а не вертикальной (сверху вниз) 8 коммуникации.
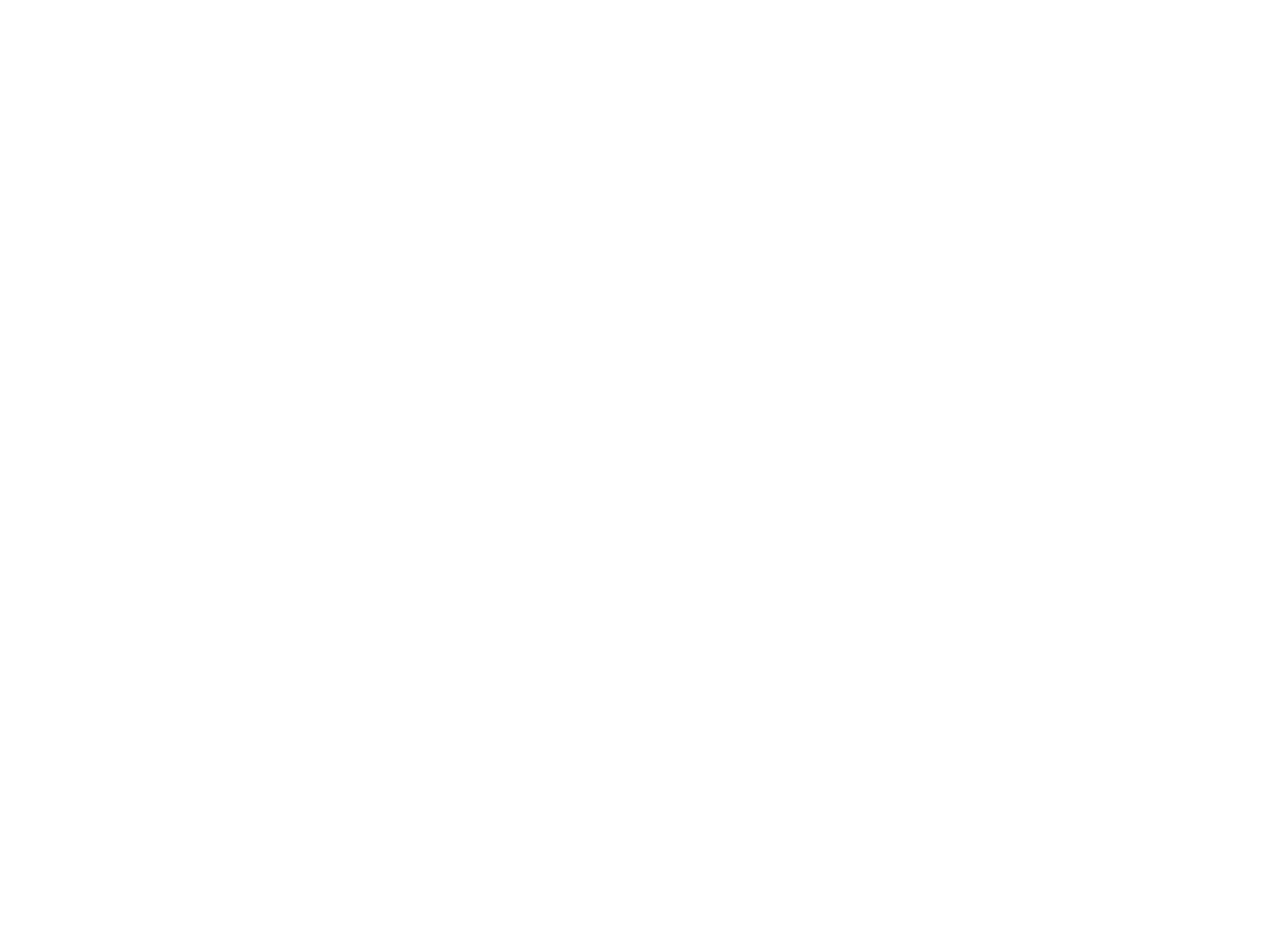
Информационное общество Спектр трактовок теории информационного общества обобщил профессор университета Ланкастер (Англия) Фрэнк Уэбстер. Все рассматриваемые теории автор разделил на две большие группы. В первую группу попали концепции, утверждавшие переход общества в новую, "информационную" ("постиндустриальную") эпоху, т. е. теории собственно "информационного общества". Сюда отнесены концепции постиндустриализма (Дэниел Белл), гибкой специализации (Майкл Пайор, Чарльз Сейбл), информационного способа развития (Мануэль Кастельс) и постмодернизма (Жан Бодрийяр, Марк Постер, Жан-Франсуа Лиотар, Джанни Ваттимо). Во вторую группу были отнесены неомарксизм (Герберт Шиллер), регуляционная теория (Мишель Альетта, Ален Липиц) и теория гибкой аккумуляции (Дэвид Харви), теория рефлексивной модернизации (Энтони Гидденс) и концепция публичной сферы (Юрген Хабермас). Теории из второй группы говорят о преемственности современного общественного устройства. Сам автор открыто заявляет, что симпатизирует второй группе теорий, однако, старается рассматривать все теории объективно и непредвзято. Этот спектр включает: постиндустриальное общество (Д. Белл), постфордизм и информационная инфраструктура (Р. Райх), информационный капитализм и сетевое предпринимательство (М. Кастельс), корпоративный и потребительский капитализм (Г. Шиллер), управление с помощью информации (Ю. Хабермас), общество организации, наблюдения и контроля (Э. Гидденс), общество потребления, в том числе информационного (Ж. Бодрийяр), индивидуализированное общество (3. Бауман). Так, по мнению М. Кастельса, информационный капитализм, возникший в 1970 гг., Эпистемы «коммуникативного общества» и «информационного общества» – это символы различия понятий «коммуникативное» и «информационное», противостояния естественного и искусственного, природного и социального, технологического и человеческого, человеческого и общественного. «Информационное» (технологии) по природе предназначено «массовому» пользователю, оно эгалитарно, массово. Коммуникативное по своей сути – это всегда привилегия общения, рациональный дискурс, оно личностно и осознанно. Сегодня собственно глубинных связей, взаимодействий между людьми нет, есть их иллюзия, складывающаяся под влиянием 9 общности эмоций у телеэкрана, на стадионе. СМИ формируют вектор общественных эмоций, настроений, «виртуальную реальность» и «симулякры». Публика-аудитория, как ее определял Габриэль Тард, имеющая общие ценностные предпочтения, превратилась в «символическую публику», возникающую в результате информационных влияний. Коммуникативное становится сложным выбором для того, кто имеет представление о ценности и самоценности как личности.